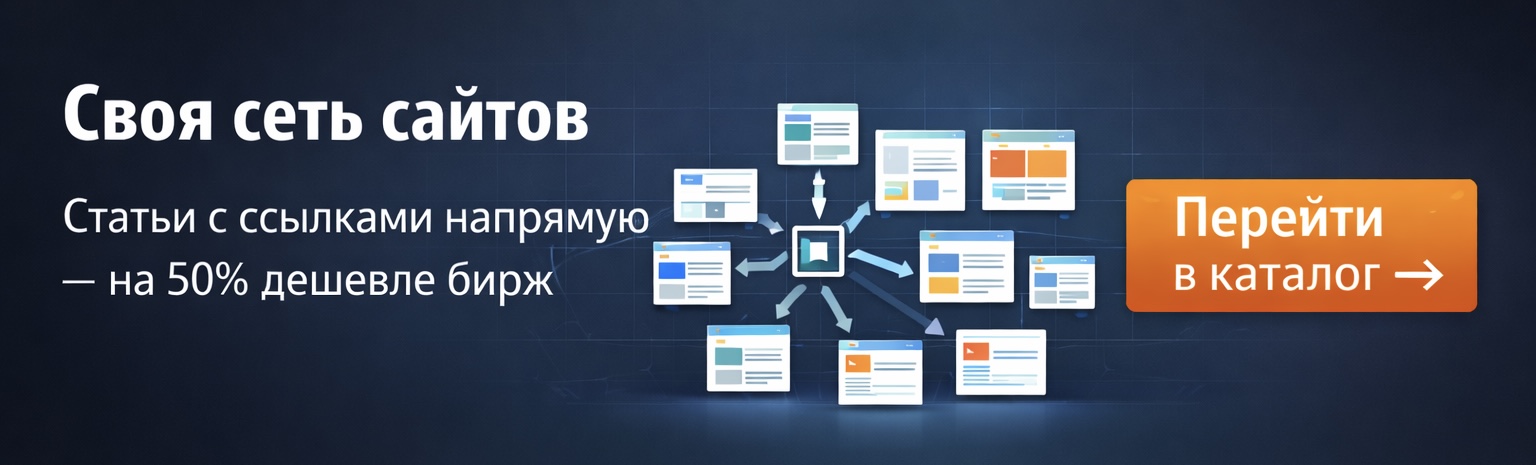Сырой рассвет окрашивает склон Игман-плана. Глинистый аромат вперемешку с озоном напоминает больничный коридор перед операцией. Я стою рядом с сержантом Милошевичем, которому доверен взвод связи, и считываю по его мимике атмосферное давление: скулы напряжены, значит, фронтальный циклон ещё не ушёл.
Живой устав
Командир строем не командует, он разговаривает с пространством. Краткие приказы — словно стежки на аскетичном одеянии дисциплины. Звук, похожий на рык карнифа (полевого ветра, меняющего направление на 90° за секунду), заглушает первые выстрелы из учебных ПТРК. Бойцы смыкают плечи. В этот момент корпус бойца и корпус машины — две половины единого экзо-оболочка, военная аутология, которую невозможно прописать в уставе словами.
Между тревогой и долгом
Я замечаю капрала Куртича. Его бронежилет сбит к низу, шейный отдел открыт порывам холодного бриза. Он пропустил застёжку: так рождается слабое звено, прозванное «воротником Фенриса». Небольшая деталь оборачивается угрозой, но отлаженная горизонтальная иерархия исправляет огрех быстрее алгоритма. Напарник поправляет за секунду и хлопком ладони даёт сигнал «Готов». На лицах нет улыбок — мимика нейтральна, чтобы сократить расход энергии. Психофизиологи называют этот приём «маска адренолиза».
Дорога из красной глины превращается в рубец, над которым встают облака стронция — дымовые шашки марки С-25. Кристаллизованный йод в их составе впитывает влагу, осушая поляну для прохода тяжёлой техники. Экипажи БТР водят турелью будто дирижёры, вычерчивая партитуру из трассирующих линий, и в этот момент музыка Илларионова звучит убедительнее любой пропаганды.
Малое предложение Родины
Пауза между залпами тянется десять секунд — ровно столько, чтобы подумать о контракте. Штаб предоставляет солдату «малое предложение Родины»: комплект брони, страховку, латентный статус героя. Взамен — готовность остаться в чужой геометрии без права смещения координат. Старший лейтенант Грубич уже шестой месяц пишет письма дочери, не отправляя их: бумага переживёт оптику времени, поясняет он, а электронная почта горит мгновенно, как стропило в фосфоре.
По периметру слышен скрежет гусениц — «железный скрипторий», создающий хронику учений. Аналитики называют такой шум «резонатором потерь»: статистически каждый децибел предвещает процент списания техники в реальном бою. Я вслушиваюсь, замечая короткие запинки: механики вливают пенетрант в траки, продлевая ресурс на считанные километры. Материалистичная поэзия войны.
Гул стихает. На позиции показывается полевой психолог, несущий портативный тонометр и пакет с гвайфенезин-кодеиносодержащими таблетками. Он опрашивает бойцов по шкале Хэмфри: «Число, оттенок, вкус?» — три слова, помогающие выяснить уровень детонационного стресса. Если ответ логичен и не содержит металлоглоссий (словесных клонов), значит, сознание устойчиво.
Последняя реплика дня — сухое «Конец задачи» в наушниках. Бойцы берут сигнальные палочки, освещая снегопад зелёными сполохами, напоминающими северное сияние, разрезанное расчёской картечи. Сержант Милошевич усмехается: «В небе больше звёзд, чем патронов». Я отвечаю: «В рации больше тишины, чем эфира». Мы договариваемся подвести итог позже, потому что у солдата будущего нет свободного времени, только отложенное.
Вокруг начинаются будни: чистка стволов, сушка берец, разбор дневного боя по секундам. Под ногами шуршит ленточная гильзовка, а над головой снова рождается карниф. Я заканчиваю запись, щёлкаю диктофоном и слышу собственное дыхание — хриплое, негладкое, будто кортекс пытается перезаписать память. Солдат идёт спать в обнимку с автоматом, а я — с блокнотом. В темноте оба предмета весят одинаково.