Когда телескоп улавливает бледный серп Венеры, журналист со стажем невольно вспоминает, что по размеру и химическому составу соседка почти копирует Землю. Однако при лобовом столкновении с фактами сходство мгновенно тает: температура дневной поверхности достигает +460 °C, давление сравнимо с глубиной океанских жёлобов, атмосферу наполняет углекислый газ с примесью серной сажи.
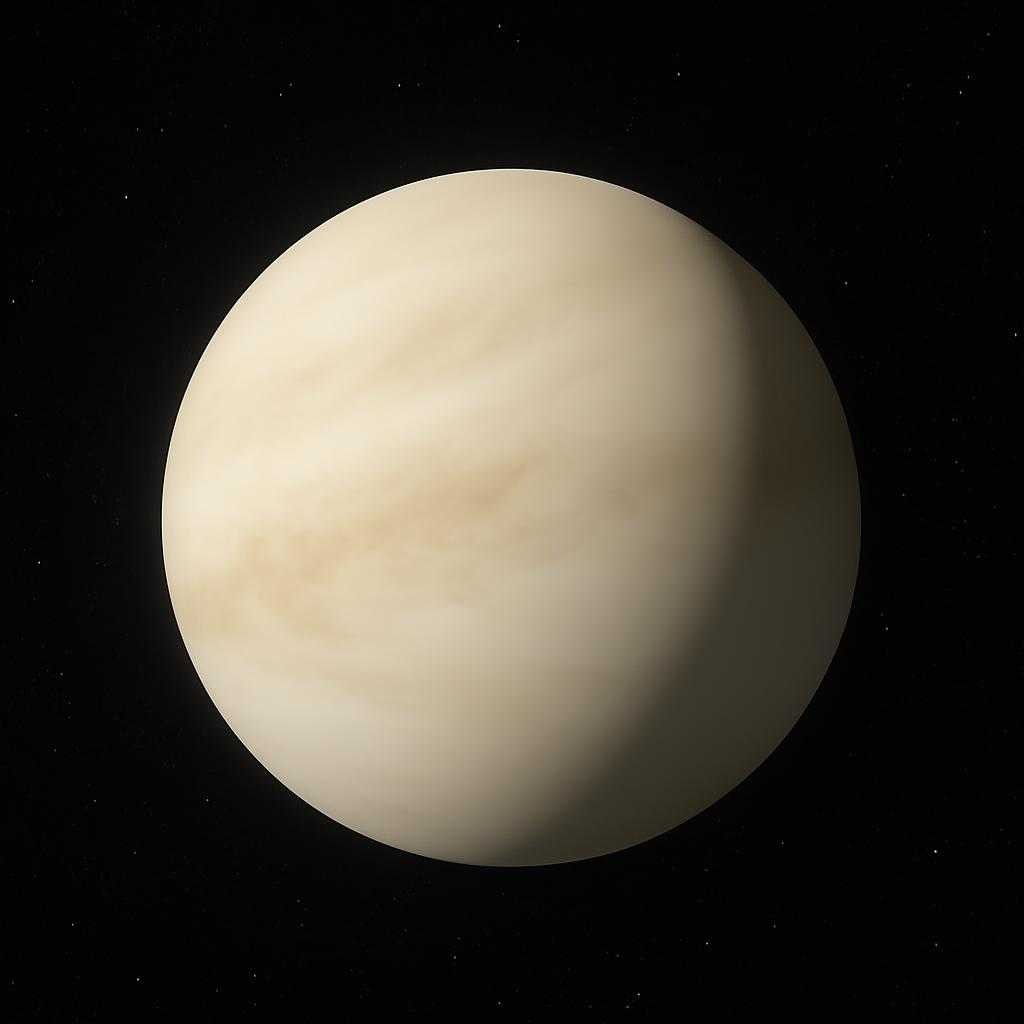
Древний океан
Геохимики из команды Pioneer Venus ещё в конце семидесятых заметили остаточные пары водяной составляющей. Количество дейтерия в атмосфере в сорок раз выше земного, что подсказывает: жидкая оболочка существовала и выгрузила огромные массы пара во внешние слои атмосферы. Компьютерная гидродинамика показывает, что при яркости юного Солнца венерианское небо хранило облачную завесу, удерживавшую альбедо выше сорока процентов, благодаря чему поверхность держала температуру около +20…+30 °C. Подобный режим открывал окно для водного цикла, базальтового выветривания и бактериальной колонизации.
По мере того как светимость звезды набирала обороты, испарение усиливалось. Паровой зонтик поднялся выше двухсот километров, где ультрафиолет расщеплял молекулы. Водород ускользал в космос, тяжёлый кислород давал лишний окислительный заряд. Начался «паровоз Хаббла» — runaway greenhouse в терминологии Саган—Рассим. Парниковый разгул подогревал кору, ускоряя дегазацию магматических флюидов и увеличивая долю CO₂.
Гибельный парниковый догон
Переход в суперкритический диоксид породил эффект Клапейрона: давление превысило девяносто атмосфер, плотность атмосферы приблизилась к морской воде. В таких условиях даже кремниевая кислота находится в подвижном жидкоподобном состоянии, стимулируя химический износ горных пород. Вулканизм петлёй обратной связи выбрасывал сернистый газ, объединявшийся с водяной диссоциацией в аэрозоль H₂SO₄. Отражательная способность планеты выросла, но тепловая ловушка уже заперла инфракрасное излучение внутри.
Кора не выдержала. Визуальный рекорд Magellan демонстрирует обширные лавовые равнины, щитовые купола, переразогретые каналы, напоминающие чернильные разводы на акварели. Торсионное напряжение мантийных плюмов вылилось в катастрофическое «глобальное обновление коры», датированное семьсот миллионов лет назад. Старый рельеф почти исчез: детектировать древние кратеры удаётся лишь в приподнятых высокогорьях Иштар и Афродита.
Сегодняшний пекло
Живой организм на Венере встречает суперкритическую баню с сильной кислотностью, давлением 9,2 МПа, температурой плавления свинца и практически полным отсутствием воды. Молекулы ДНК разрушаются быстрее секунды, белки денатурируют мгновенно, мембраны вспучиваются под давлением углекислоты. Даже борозды, фиксированные зондами «Венера-9» и «Венера-13», выглядят расплавленными словно лужёная жесть в кузнице.
Сторонники гипотезы о верхнем облачном микробиоценозе, вдохновлённые андреаполем Лавлока, указывают на температуру порядка +60 °C и давление земной тропосферы на высоте пятьдесят пять километров. Однако облачный аэрозоль содержит концентрированную серную кислоту, вакуолей для нейтрализации нет, фотонов ультрафиолета слишком много, а фосфор проявляется лишь как туманная линия в спектре. Вероятностьь стабильной метаболической цепочки при таком составе равна математической границе «нулю» по Лапласу.
Сравнение с ранней земной историей подсказывает, что роковую черту пересечённая Венера уже не откатит. Улетучившийся водород без шансов вернётся: масса планеты и магнитное поле Ниофеоса — индуцированное слабым хвостовым током — не обеспечат должного экранирования от солнечного ветра. Ледники кометных потоков не долетят до поверхности — их испарит плотная термосфера задолго до посадки.
Парадокс Венеры служит резким напоминанием о тонком балансе условий, удерживающих биосферу на голубом шаре. Дополнительные два процента солнечной энергии нагрели сестру до неузнаваемости, а незначительная разница масштаба ускорила дегазацию мантии. Обратная сторона утренней звезды демонстрирует, насколько легко климатический маятник выходит из равновесия.
В обозримом горизонте миссии EnVision, VERITAS и «Венера-Д» распутают хронологию преобразований с помощью радиолокации и спектроскопии высокого разрешения. Если анализ подтвердится, уловленные изотопы ксенона и криптона расскажут о ранних ударах протопланет, а точные карты низменностей подскажут, где когда-то плескались мелководные лагуны. Самой планете прошлое уже не вернуть, однако урок пригодится далёким экзоземлям у жёлтых карликов.
