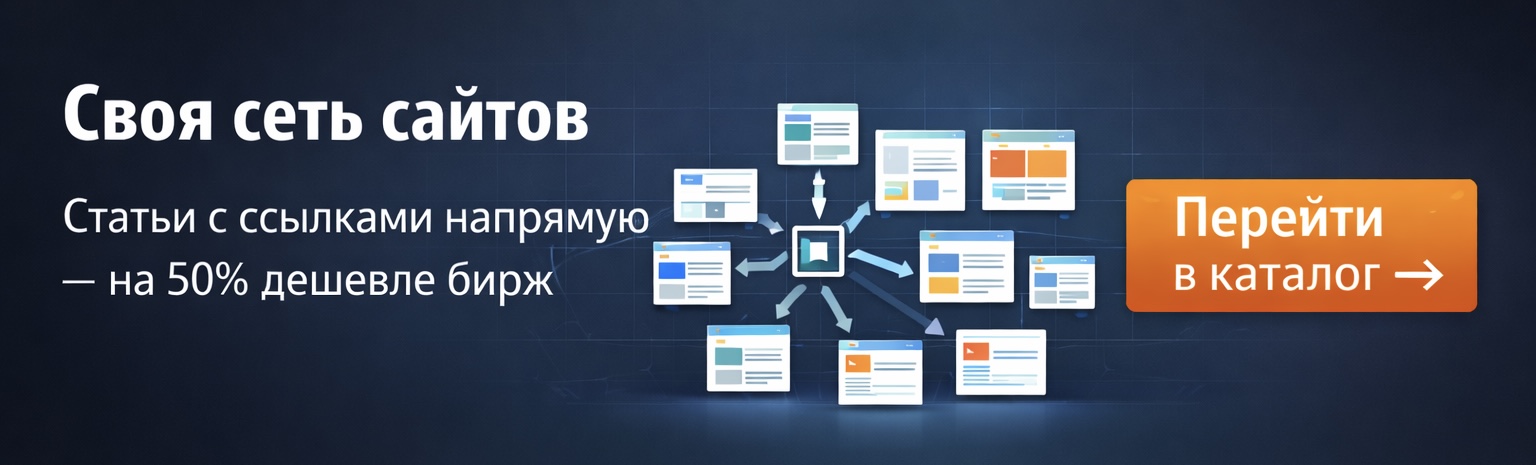Я в третий раз высаживаюсь на платформу станции Жиганск, окружённую тихим маревом раннего августа. Причина визита — гремучая история с дворовым котом, ставшим центром почти религиозного конфликта.

По данным районного отдела МВД, местный житель Виктор Шило пленил рыжего беспризорника, чтобы выторговать примирение с возлюбленной. С просьбой вернуть питомца выступил школьный учитель Арсений Легеев, крокиолог-любитель, коллекционирующий отпечатки лап животных.
Ссора переросла в поджог дачного сарая, храмовые проклятия, публичные извинения на городской площади. Я собираю свидетельства, заметая отдельные штрихи в блокнот, пока ржавый тепловоз бессильно сопит за моими плечами.
Камышовый лабиринт вокзала
С перрона слышен тягучий приглушённый гул цикад. Среди пассажиров — бабушка с ведёрком сметаны, курьер с тёмным рюкзаком Darksail, пара курсантов. Лица напряжены, разговоры обрываются при словах «кот» и «душа». Так работает феномен коллективного заражения, описанный дореволюционным психиатром Ефимом Бекасом: переживание проецируется сразу на всю группу, формируя «эндаксу» — устаревший термин, означающий тревожную круговерть слухов.
Я выхожу к булгаковским домом со скошенными крышами. Пахнет ряской, болотом, пережжённым сахаром. Первую хронику мне даёт почтальонка Ираида: зверёк гулял на окраине посёлка, пока Виктор не запер его в тесном подвале. Легенда быстро обросла приметами: кот будто поглощал молитвы, забирал счастье из домов, портил молоко. Фольклорист назвал явление «апотропеей наоборот», когда защитный символ превращается в угрозу.
Клаустрофобия соседей достигла апогея после того, как у старосты сгорела библиотека. Причину возгорания ищут криминалисты, но толпа увидела знак. Виктора выгнали из продуктовой лавки, детей до улицы выпускать перестали, а я получил разрешение на беседу с самим диссидентом.
Ночной протокол
Пост временного содержания скрыт за бетонной оградой. Камера четыре на пять метров, лампа излучает холодный люминал. Виктор опирается о стену, рука в гипсе: ожоги второй степени. Он без макияжа провинциального злодея, голос ровный. «Я просто хотел внимания», — шепчет. По его словам, кот понравился любимой, и заложник оказался удачным способом вернуть чувства.
Конфликт выскочил из-под контроля. Учитель Арсений набросился ночью, цитировал Климента Александрийского, требуя отдать «посланника безмолвия». Виктор не уступил. В ход пошёл керосин. Деревенская психология знает прецеденты: животное обретает статус сакрального сосуда, в нём словно аккумулируется незримый капитал веры. Потери этого капитала воспринимаются как кража будущего.
Доктор-психиатр Лидия Дунская фиксирует синдром «трансфуринизации» — переход границы между персональной и зоологической идентичностью. Термин родился во французской школе Елизарова, но здесь он вспыхнул всей силой: люди перестали отличать собственные эмоции от мимики кота. Любая царапина на его шерсти ощущалась как рана на сердце сообщества.
В опорном пункте комиссии по этике обсуждается мера пресечения. Одни требуют казни, другие просят церковного покаяния. Содержать животное среди улик запретил ветврач Галынский: у кота выявлен скототоксикоз — отравление залежалой крупой. Судебная перспектива мутна, но уже ясно: граждане перешли черту, где рацион исчезает.
Вердикт деревни
Утренний сход проходит у клуба «Алые паруса». Спикер читает обвинительный лист, гормон превращается в ровный монотонный, гул эхом уносится к ярам. Я вижу, как двухметровый кузнец вешает на шею набалдашник из лыка: примитивный кулон, призванный «закрыть» душу от кражи. Ритуал пугающе трогателен. Никто не вспоминает Виктора, жители обсуждают, как вернуть кота из усыплённого пункта, где он проходит карантин.
Я подхожу к сцене, фиксирую кадры: старшие вешают на ворота кизиловые веники, дети держат белые свечи. Стоит появиться слову «милосердие», находящийся рядом священник отводит взгляд. Каждая реплика пахнет серной кислотой обиды. Иллюзия совместного спасения подменила юридическую процедуру.
В поздний полдень приходит новость: кот скончался от отёка лёгких. Диагноз короток, однако толпа воспринимает это как оплату долгов Виктора. Локальные медиа раздувают заголовок «Шило выплатил жизнь», и история приобретает эсхатологический смысл.
Я возвращаюсь к площади. Асфальт заплёван меловыми знаками: треугольники, круги, латинская буква «A» с трезубцем — смесь герметизма и подросткового панка. Диктофон фиксирует безнадёжную симфонию: «мы утратили солнце», «бес вырвался наружу», «деньги пахнут серостью».
Вечером кабинет главы района погружён в лиловый полумрак. Чиновник признаётся: «Мы пропустили момент, когда кот перекочевал в место святыни». Он готовит постановление о сезонных лекциях по биоэтике, хотя понимает, что лекция уже опоздала. Психическая детонация случается мгновенно, а плакаты с QR-кодами появятсяпоявляются намного позднее.
Я переправляю заметки в редакцию: меланхолия прошивает клавиши, словно графитовый угорь. Моё личное резюме звучит так: ценность жизни животного стала разменной монетой для его-войны, где каждый пытался погасить собственную пустоту чужой болью. Душа посёлка осыпалась, словно штукатурка с потолка, оставив голую кладку из крика.
На перроне вновь армейский ревун объявляет отправление. Фонарь выхватывает крохотную фигурку: девочка несёт картонный ящик. Внутри слышен писк — котёнок думает, что мир хранит тепло. Поезд отходит. Я закрываю глаза, чувствуя, как резиновый резонанс колёс глушит несостоявшуюся молитву деревни.
Миссия завершена, но треск сантиментов продолжает вибрировать под кожей. Звонкий хор сознания шепчет: «Сгубить душу из-за кота проще, чем отмыть руки от сажеотложения недоброты». Возвращаюсь в столицу, где люди спорят о курсе валют, не догадываясь, что их ценности стоят ровно одну бесхозяйную жизнь рыжего беса.