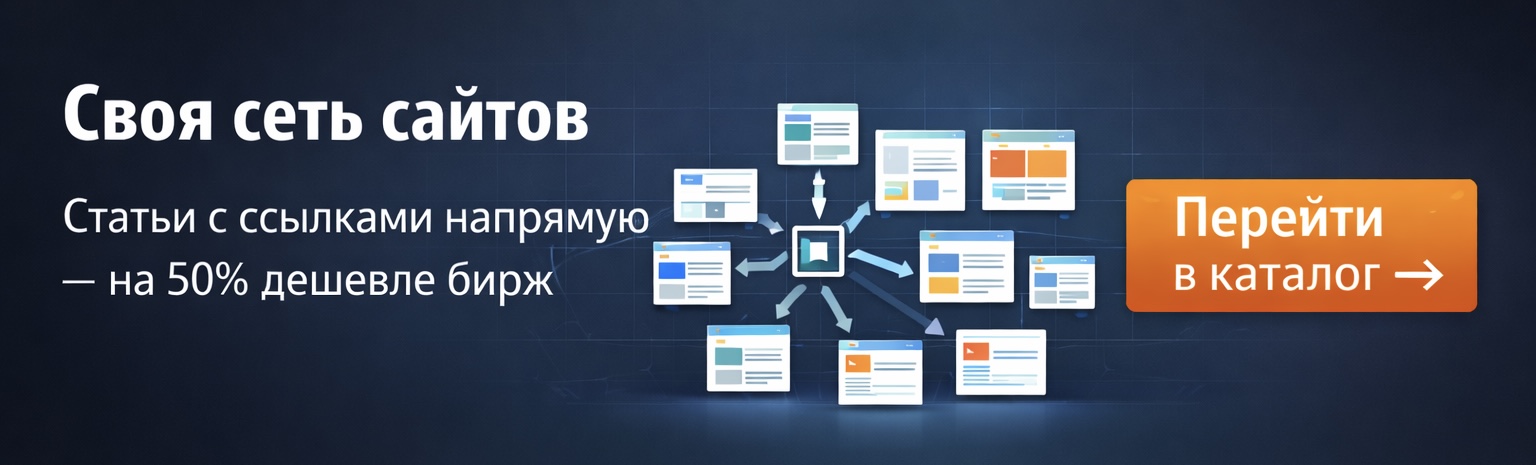Сентябрьский вечер 1996-го застал меня в пресс-центре округа Хайс, когда фермер Феликс Мартинес принёс тушку странного койотообразного хищника. Тогда я впервые услышал свистящее слово «чупакабра» — козопыр, как шутили местные. Шерсть редкая, зубы иглообразные, запах озонный, словно после грозы. Репортёрский блокнот пропитался адреналином — под клавиши будто просочилась мексиканская легенда, пересёкшая Рио-Гранде без паспорта.

Первые хроники
Газеты штатного Юга хранили вырезки ещё с начала шестидесятых: раскуроченные козьи стола, дыры в коже животных диаметром карандаша, обескровленное мясо. В отчётах шерифов встречалось слово “sanguination”, описывающее полное отсутствие свёртышей на соломине. Биологический след — двуцепочечный фуркулум — отличал укусы от обычных койотов. Потоки звонков в дежурную часть тогда подымали телефонные ручки так, будто штат вернулся в телеграфную эру.
Фольклор обвинил зверя в хемаламии — редкой форме трофического паразитизма, где хищник забирает плазму, оставляя мускулы. Термин ввёл профессор судебной ветеринарии Лоуренс Паркинс, опубликовавший статью в Austin Veterinary Review: он отмечал отсутствие тканевой деструкции вокруг проколов. Для нас, газетчиков, описание работало точнее криминального фоторобота.
Научный скепсис
Вслед за всплеском репортажей прибыла бригада зоологов из Техасского аграрного колледжа. Они предъявили гипотезу о генной деривации койотов, поражённых саркоптозом, где выпадение шерсти и отёчность морды придавали чудовищный вид. ДНК-секвенирование образца Мартинеса показало 96-процентное сходство c Canis latrans, оставшиеся нуклеотиды относили к вирусу CMV-20, способному усиливать стероидогенез и выводить зверя к ночному хищничеству. Курок журналистского ажиотажа щёлкнул тише, но легенда не испарилась.
Фольклор и бизнес
Пока учёные разбирали секвенции, дорожные кафе между Сан-Антонио и Далласом начали штамповать брелоки с красноглазым профилем зверя. Туристическая синекура вспыхнула подобно нефтяному факелу Пермского бассейна. Я брал комментарии у владельцев придорожных ранчо: страх соседствовал с азартом, ведь внезапная слава накачивала кассы равно адреналину. В местном сленге родилось слово “chupa-run” — ночной экскурсионный рейд за ультрафиолетовыми снимками следов. Такой рейд приносил до трёхсот долларов за вечер.
Штатный криминалист Ричард Керн употребил термин “панзоозия слухов” ― вспышка неподтверждённых сообщений, распространяемых быстрее патогенов. Согласно его подсчётам, за два лунных цикла поступило свыше двух сотен заявлений о ночных нападениях, однако ни один ветеринар не подтвердил полную эксангуинацию. Статистическая карта выглядела как звездопад: точки массово тянулись вдоль шоссе I-35, опоясывая фаст-фуд магнит.
Сейчас, пересматривая пожелтевшие ксерокопии дел, понимаю, что чупакабра превратилась в зеркало коллективного напряжения приграничья. Каждый свежий укус — как точка росы на причудливой паутине страхов, стягивающей сообщества ранчо. Техас любит длинные тени, и темноватый силуэт хищника вписался в них органично, словно новелла Маркеса среди хлопковых полей.
Меж прерией и сетками соцсетей древнее эхо не стихает. В новостной ленте периодически выскакивают снимки без вхолостых тварей с клювовидной мордой. Как ни странно, я по-прежнему храню первый засохший образец шерсти в архивном пакете: для меня он пахнет не мистикой, а скорой редакционной вёрсткой, хрустом стоп-кадра, который никогда не сдаётся фактам окончательно.