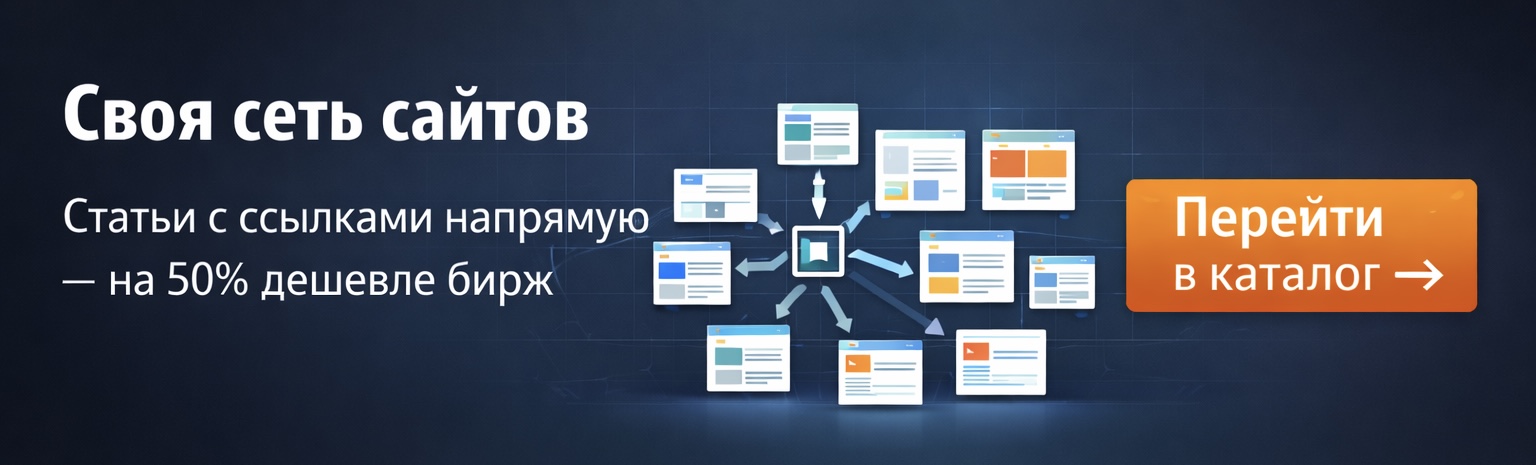Я выхожу из палатки шамана эвенков, и небо над Полярным кругом окрашено полярным заревом, словно гигантский факел. Мой диктофон ещё хранит рассказ о волке-проводнике — духе охоты, которого тундра дарит лишь тем, кто дышит в ритме ветра. Волк предстаёт «оронгхо», то есть посредником между хребтом Яблоновым и миром теней. Здесь звучит архаизм «ке́с» — слово, использовавшееся для обозначения тотемного кляпа, символизирующего обет молчания перед охотой.

Тень волка
В Якутии волчий вой служит расписанием: три протяжных звука сулят приближение морозного фронта, короткие отрывистые — похищение огня у подземного хозяина Чапогыра. В скандинавских сагах серый хищник воплощает понятие «fernweh» — томление по дальним дорогам, именно поэтому путники, ступая на викингские кнорры, оставляли на причале вырезанные лапы Фенрира, желая кораблю непрерывного течения. На Балканах, напротив, встреча с волком трактуется как приглашение к свадебному застолью: символизирует честность брачного союза, ведь зверь выбирает партнёршу раз и навсегда.
Кошачий закон
В древнем Бенаресе считали, что кошка уводит в царство сна двенадцать грехов человека, по одному за каждую whisker — вибриссу. Поэтому ни одна повторяющаяся оговорка не режет слух индийского жреца так, как звук ножниц возле шёлковой шкурки мурлыки. В Магрибе каждый хвостатый полосатик приравнен к хаджи: животному полагается глоток воды из фонтана Сахар с рассвета до сумерек. В Японии обиходен термин «каи-кени» — ночное блуждание кота по крышам, предвещающее землетрясение. Сейсмологи фиксируют, что мурлыка ощущает подкорковые толчки Пачкуэрий, рредкого явления, когда кристаллические породы стираются, как рисовая бумага.
Птичьи оракулы
На Гавайях сова «пуэхио» зовёт рыбака в океан: если пернатая прорезала тишину тремя щелчками клюва, ждётся улов из лунного тунца. У народа йоруба петух ступает в роль «оджоко» — судебный пристав при алтарях Огуна. Красный гребень изображает извилистую полосу металлургической реки, потому во время литейных работ птенцов кладут недалеко от горна — тепло укрепляет их иммунитет, по поверьям кузнецов. В андских долах гуаноносный баклан зовётся «чанака» и служит барометром: пернатый высовывает шею, словно руно Ариадны, когда атмосферное давление падает ниже отметки «килапаскаля Каса». Пастухи сразу уплотняют стены овечьих загонов, ведь сырость приносит перламутровую плесень «лактицидум» — она губительна для шерсти.
Перед нами не просто фольклор, а живая хроника взаимодействия человека и фауны. Каждый образ хранит ступени эволюции общественного договора, где зверь одаряет человека охраной, а Homo sapiens расплачивается ритуалом, песней, нередко кровью курительной жертвы. Сообщая о повериях, я ощущаю себя посредником, который передаёт эхо тысячелетий в ленту новостей: сегодня волк, кошка и птица разговаривают сквозь голоса шаманов, имамов, кузнецов и океанских рыбаков — и каждое слово зверя, подобно искре кремня, высекает сюжет грядущего выпуска.