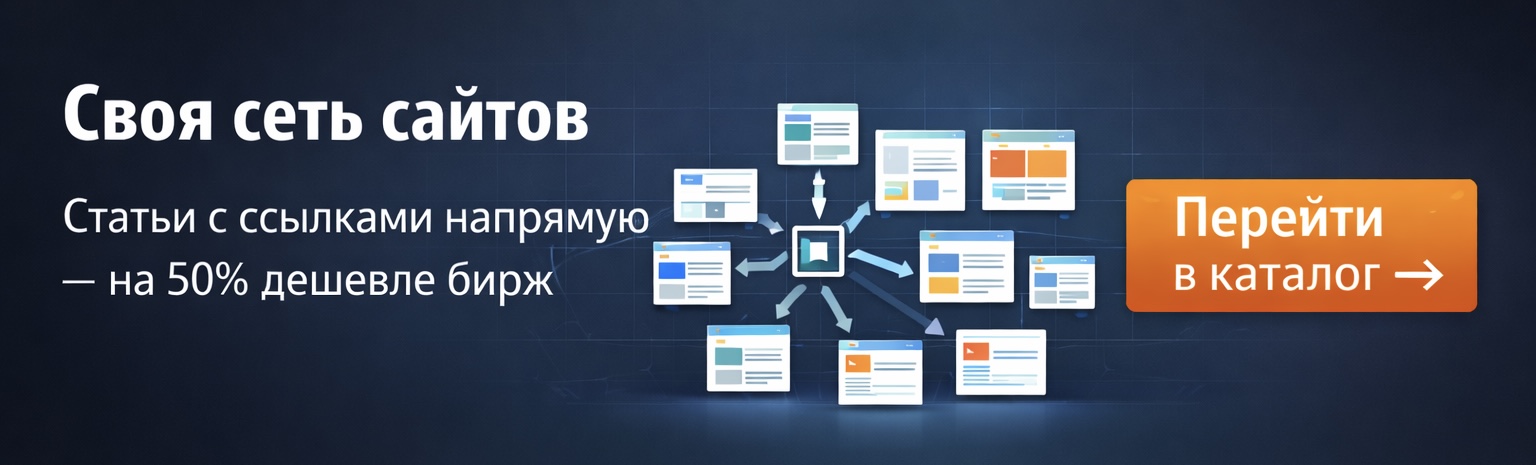Я прилетел в аэропорт Лонг тапу не случайно: редкий регион удерживает связь с ушедшими так упорно, как тороджийцы. Моя пресс-аккредитация открыла двери в дома, где гроб не прячут, а ставят рядом с телевизором. Усопший — временный сосед, «то’мина» — гость, ожидающий своего главного выхода. Тело бальзамируют на основе формалина, добавляя сок гвоздичных бутонов — запах пряника побеждает запах распада. Здесь смерть теряет остроту, оставляя сухой вкус табака и рисового вина баллок.

Между жизнью и тленом
Долина Танаторжа будто разделена невидимым порогом. По одну сторону кипит будничный рынок: продают церемониальные быки «каррабау» и свиней редкой породы «памакка». По другую — навесные склепы «люкку», где гротескные «тау-тау» (деревянные двойники усопших) смотрят на рисовые террасы. Я поднимался к ним по лестнице, высеченной в известняке. Гид объяснил слово «aluk to dolo» — свод предков, стоящий выше всех гражданских законов. Нарушить предписание похорон — значит навлечь «sambuang», порчу, сравнимую с политическим баном в мегаполисе.
Во время обряда рабы драматургии толкают быков по кругу. Кровь стекает в канаву, её густота напоминает лак. Ритуальный пульс задают бамбуковые литавры «papa’ tokai». Я ощутил, что попал в культуру, где смерть не запятая, а двоеточие: за ней разворачивается новый текст.
Экономика обряда
Средний похоронный бюджет семьи сопоставим с годовым доходом подразделения аграрного кооператива. По моим подсчётам, одна церемония поглощает до 24 буйволов «tedong bonga» с мраморными пятнами — символ престижа. Бугаи привозят за 350 км на грузовиках-«домпрак», объятых запахом ветивера и дизеля. Растущие траты порождают феномен «ритуального кредита»: банки Торджанского района выдают займы под 14 % годовых, залогом выступает будущий урожай какао. В городе Макаллен я взял интервью у управляющего отделением BPRS, он признал, что портфель таких займов превысил 38 % их активов.
Туризм добавил новую линию дохода. За возможность наблюдать жертвоприношение европейцы платят 30 000 рупий, часть суммы идёт на страховку семьи от инфляции риса. При этом местный совет принял регламент «tidik rambu solo» — квота не более пятидесяти посторонних свидетелей, иначе ритуал рискует превратиться в мюзикл. Я видел, как гиды просят гостей снять солнечные очки: зеркальные линзы будто крадут душу покойного.
Эхо бамбуковых труб
Кульминация — манене. Каждую трёхлетку склеп вскрывают, гроб разворачивают. Тело извлекают, одевают в новую саронгу, проходят процессией до деревни. Влажность предгорий сберегает ткани, лицо усопшего скукоживается, но черты узнаваемы. Это напоминает обернутую в папирус мумію, только контекст не музей, а двор, где дети учат алфавит. Я фиксировал уровень формальдегида портативным газоанализатором — 0,4 ppm, ниже санитарного предела. Воздух чище, чем на городском автовокзале.
Фольклористы используют термин «палимпсест идентичности»: каждый обряд наносит новый слой повествования о человеке. Дед, умерший в 1968-м, сегодня носит майку футбольного клуба «PSM Makassar», надпись на спине шелестит, когда родственник поправляет ворот. В момент, когда тело ставят обратно, тишина становится густой, как смола даммара. После этого дня гроб останется здесьакрытым ещё три года, пока календарь «pakena lete’» снова не укажет праздничную фазу луны.
Я покидал деревню Ло’ко’Ма’та с ощущением, что видел редкий союз прагматики и мифологии. Для тороджийцев смерть — не точка, а продолжение родословной в вертикали скалы. Карстовый утёс хранит тела, будто сервер облака хранит резервные копии данных. Пока бамбуковые трубы отзвукивают в вечернем тумане, память остаётся живой, а значит — нетленной.