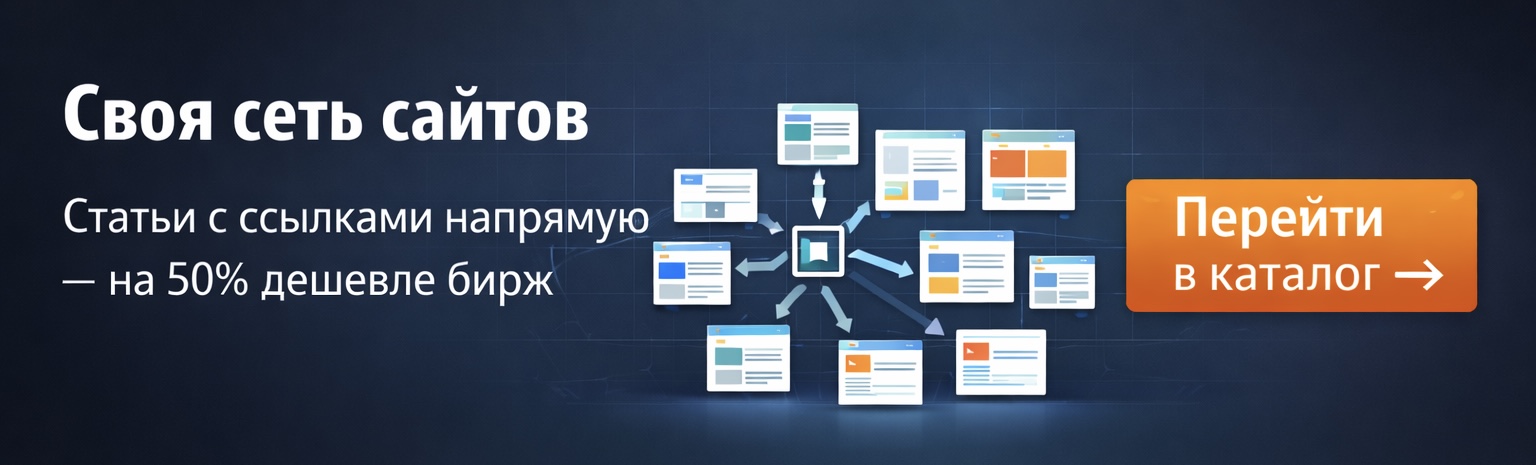Я работаю репортёром два десятка лет, освещаю аварии, пожары, судебные тяжбы. Лаконичное «без комментариев» врачей-экспертов звучало привычно, пока диагноз перестал быть строчкой в моём блокноте и превратился в шепот лечащего доктора, склонившегося над моим шестнадцатилетним сыном Егором.

Первый разлад
Подросток внезапно перестал встречать утро музыкой, заменив её тишиной. Вещи аккуратно сложены, но взгляд пуст. Термин «анедония» — утрата интереса к радующим ранее занятиям — выпрыгнул из учебника по психиатрии, словно маркер, подсвечивающий начало головоломки. Егор выходил из дома, возвращался, часами сидел перед стеной, вырисовывая ногтями сеть едва заметных линий, напоминая графитовый сейсмограф внутренних толчков.
Я не сразу заметил инверсивную аэрофагию — нервный глоток воздуха, будто попытку проглотить крик. Редактор отправил меня в очередную командировку, но мысли вертелись вокруг одного сюжета: почему собственный ребёнок медленно растворяется в серой дымке отчуждения.
Кризисная ночь
Острейшая фаза наступила через полтора месяца. Егор заперся в ванной, шёпотом повторяя: «Шум слишком громкий». Гиперакузия — болезненное восприятие звуковых колебаний — вывела его из равновесия. Пульс 120, ладони холодные, под ногтями — следы свежих царапин. Набираю 112, голос услышал металл сирены раньше, чем диспетчер закончила фразу. Бригада прибыла в белых комбинезонах для экстренной психиатрии. Лоразепам ввели внутримышечно, хлопок белой ваты закрыл вену, словно крышка конверта.
Скорая пролегла сквозь февральский сумрак, улицы показались лабиринтом, где бетон — каменная кожа города. Дежурный врач принял документы спокойно: диагноз F32.3 — тяжёлый депрессивный эпизод с психотическими симптомами. Под рубашкой сына компьютерная томограмма страха: глаза, расширенные до состояния полного лунного затмения.
За закрытой дверью
Стационар ранним утром напоминает ленту новостей внутри купола: звон ключей, шорох клипбордов, запах хлоргексидина. Коридор отделения N-4 обтянут бирюзовыми красками, но их яркость не спасает от ощущения мелового холода. На первом обходе врач озвучил схему: кветиапин в стартовой дозе, пересмотр каждые три дня, терапевтическая беседа по методике «открытого диалога», где родственники участвуют наряду с персоналом.
Термин «эстезиометрия» — измерение тактильной чувствительности — звучал странно, но пригодился: мой сын реагировал на прикосновения будто кожа лишена фильтра, любое давление приростом боли. Медсёстры объяснили: так проявляется дизэстезия — ложное восприятие стимулов. Словарь растягивался, страницы в голове шуршали, уступая место новым словам, как будто внутренняя редколлегия допечатывала выпуск без остановки.
Я проходил идентификацию на посту, оставлял телефон, ремень, шнурки — привычные предметы вдруг приобрели индекс риска. Дверь захлопывалась, гул гасил привычный городской фон, и начинался другой ритм: шесть приёмов лекарств в сутки, четыре психотерапевтических круга, два часа монотонной ходьбы по тридцатиметровому коридору. Пациенты медленно перетекали из света в тень, словно фигурки в калейдоскопе, где рисунок сменяется прежде, чем глаз успевает удержать прошлую форму.
Один подросток рассказывал про «фиксированный сон» — феномен, при котором одно и то же сновидение возвращается еженощно, будто телесериал без кнопки паузы. Девочка рисовала «шум» в виде аграфической спирали, зеркально перевёрнутой буквы G. Я сидел рядом и отмечал: сюжеты репортажа прячутся в карманах больничной пижамы, но журналистика бессильна, когда заголовок написан на твоём лице.
Электронная карта фиксировала первые изменения. Сон восстановился до шести часов, взгляд теплее, рука больше не дрожит. Компульсивное считывание шумов пропало, вместо навязчивых счётов до сотни возникла робкая просьба: «Принеси гитару». Струны прошли досмотр, колки замотаны изолентой, что исключило повреждения, но оставило звук. Появилась простая мелодия, я стоял у двери, слушая, как ноты, словно стрекозы, вылетают в коридор и садятся на плечи дремлющих пациентов.
Через пять недель консилиум сообщил: ремиссия стойкая, амбулаторное продолжение возможно. Электроконвульсивная терапия, предлагавшаяся первоначально, исключена. Вместо неё когнитивная реабилитация, групповая арт-терапия, контроль пульса оксиметром утром и вечером. Я подписал бумаги, забирая сына домой. Нас провожали, словно корабль после докового ремонта: корпус цел, краска свежая, хотя штормовые зоны всё ещё впереди.
Возвращение оказалось сложнее, чем сам стационар. В метро к нам прижался шум, в школьном коридоре свист дверей резал слух, а комментарии одноклассников били сильнее, чем диагноз. Я остановил поток онлайн-новостей, сосредоточившись на дыхании семьи. Мы перешли на вечерние прогулки вокруг набережной, считали баржи, вдыхали запах сырой древесины с лесопилки. Разговоры медленно обогащались. Егор однажды заметил: «Тишина больше не звучит стеклом».
Недавний контрольный приём показал стабильную динамику. Врач упомянул термин «эвтими́я» — ровное настроение без резких всплесков. Слово прозвучало, как новый топоним на семейной карте.
Я возвращаюсь в редакцию, открываю чистую страницу. В руке слегка дрожит перо, однако текст ложится уверенно. Привычная рубрика хроники чрезвычайных событий наполняется свежим оттенком личного опыта. Иногда коллеги спрашивают, где проходит граница между репортёрским любопытством и отцовской тревогой. Отвечаю честно: граница — не линия, а пульсация, похожая на сердечный ритм сына, который я однажды услышал в пустой больничной палате и не забуду никогда.